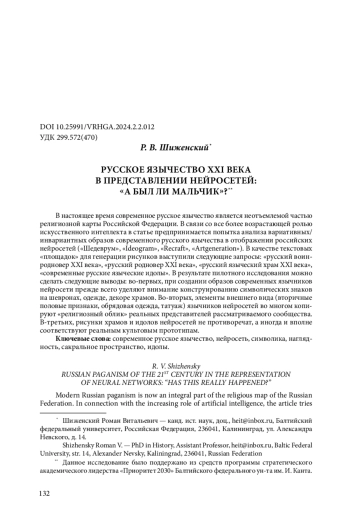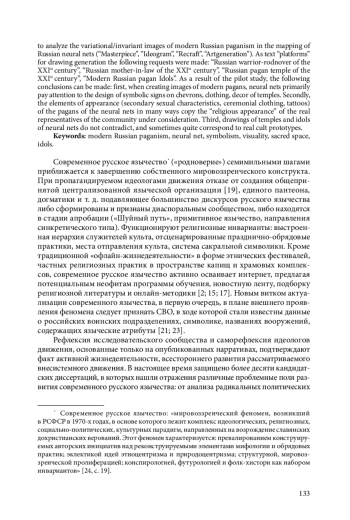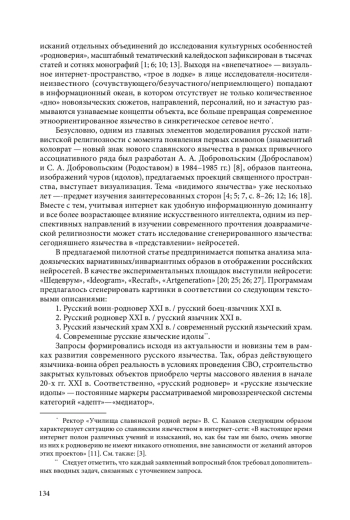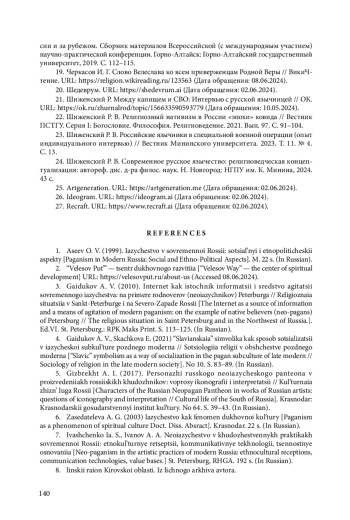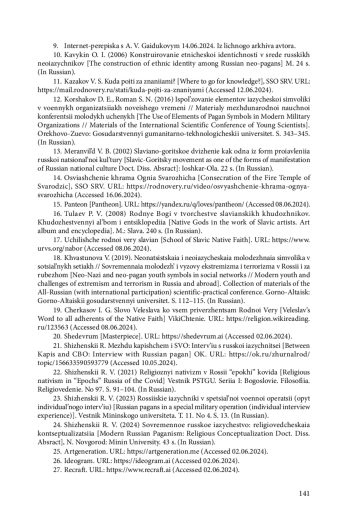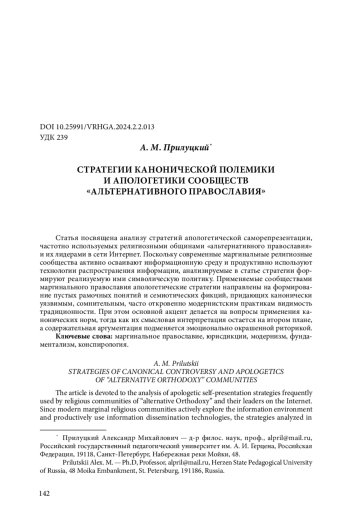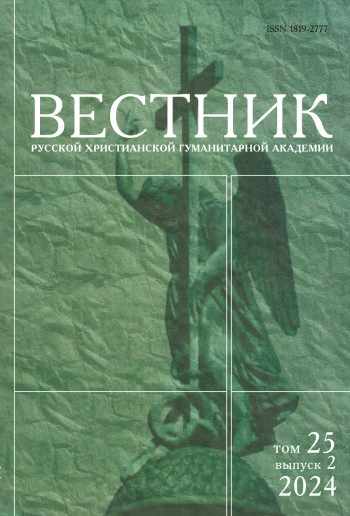В настоящее время современное русское язычество является неотъемлемой частью религиозной карты Российской Федерации. В связи со все более возрастающей ролью искусственного интеллекта в статье предпринимается попытка анализа вариативных / инвариантных образов современного русского язычества в отображении российских нейросетей («Шедеврум», «Ideogram», «Recraft», «Artgeneration»). В качестве текстовых «площадок» для генерации рисунков выступили следующие запросы: «русский воинродновер XXI века», «русский родновер XXI века», «русский языческий храм XXI века», «современные русские языческие идолы». В результате пилотного исследования можно сделать следующие выводы: во-первых, при создании образов современных язычников нейросети прежде всего уделяют внимание конструированию символических знаков на шевронах, одежде, декоре храмов. Во-вторых, элементы внешнего вида (вторичные половые признаки, обрядовая одежда, татуаж) язычников нейросетей во многом копируют «религиозный облик» реальных представителей рассматриваемого сообщества. В-третьих, рисунки храмов и идолов нейросетей не противоречат, а иногда и вполне соответствуют реальным культовым прототипам.
Идентификаторы и классификаторы
Современное русское язычество («родноверие») семимильными шагами приближается к завершению собственного мировоззренческого конструкта. При пропагандируемом идеологами движения отказе от создания общепринятой централизованной языческой организации [19], единого пантеона, догматики и т. д. подавляющее большинство дискурсов русского язычества либо сформированы и признаны диаспоральным сообществом, либо находятся в стадии апробации.
Список литературы
1. Асеев О. В. Язычество в современной России: социальный и этнополитический аспекты: автореф. дис. … канд. фил. наук. М., 1999. 22 с. EDN: NLORLX
2. “Велесов Путь” -центр духовного развития. URL: https://velesovput.ru/about-us.
3. Гайдуков А. В. Интернет как источник информации и средство агитации современного язычества: на примере родноверов (неоязычников) Петербурга // Религиозная ситуация в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. Вып. VI. СПб.: РПК Макс Принт, 2010. С. 113-125. EDN: TRCMAJ
4. Гайдуков А. В., Скачкова Е. Ю. “Славянская” символика как способ социализации в языческой субкультуре позднего модерна // Социология религии в обществе позднего модерна. 2021. № 10. С. 83-89. EDN: XQSPUB
5. Гизбрехт А. И. Персонажи русского неоязыческого пантеона в произведениях российских художников: вопросы иконографии и интерпретации // Культурная жизнь Юга России. Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2017. (64). С. 39-43. EDN: YTDWLF
6. Заседателева А. Г. Язычество как феномен духовной культуры: автореф. дис. … канд. культ. наук. Краснодар, 2003. 22 с. EDN: NMFQTJ
7. Иващенко Я. С., Иванов А. А. Неоязычество в художественных практиках современной России: этнокультурные рецепции, коммуникативные технологии, ценностные основания. СПб.: РХГА, 2023. 192 с. EDN: IGDBBN
8. Интервью С. А. Добровольского (Родостава) Р. Шиженскому 06.10.2023 г. пгт. Ленинское Шабалинский район Кировской области. Из личного архива автора.
9. Интернет-переписка с А. В. Гайдуковым 14.06.2024. Из личного архива автора.
10. Кавыкин О. И. Конструирование этнической идентичности в среде русских неоязычников: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006. 24 с. EDN: NKGSCF
11. Казаков В. С. Куда пойти за знаниями? / ССО СРВ. URL: https://mail.rodnovery.ru/stati/kuda-pojti-za-znaniyami.
12. Коршаков Д. Е., Роман С. Н. Использование элементов языческой символики в военных организациях новейшего времени // Материалы международной научной конференции молодых ученых. Орехово-Зуево: Государственный гуманитарнотехнологический университет, 2016. С. 343-345. EDN: WLDHGZ
13. Меранвильд В. Б. Славяно-горицкое движение как одна из форм проявления русской национальной культуры: автореф. дис. … канд. фил. Наук. Йошкар-Ола, 2002. 22 с.
14. Освящение храма Огня Сварожича / ССО СРВ. URL: https://rodnovery.ru/video/osvyashchenie-khrama-ognya-svarozhicha.
15. Пантеон. URL: https://yandex.ru/q/loves/pantheon.
16. Тулаев П. В. Родные Боги в творчестве славянских художников. Художественный альбом и энциклопедия. М.: Слава, 2008. 240 с. EDN: QRKGHN
17. Училище родной веры славян. URL: https://www.urvs.org/набор.
18. Хвастунова Ю. В. Неонацистская и неоязыческая молодежная символика в социальных сетях // Современная молодежь и вызовы экстремизма и терроризма в Рос 1 сии и за рубежом. Сборник материалов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2019. С. 112-115. EDN: OICLYM
19. Черкасов И. Г. Слово Велеслава ко всем приверженцам Родной Веры / ВикиЧтение. URL: https://religion.wikireading.ru/123563.
20. Шедеврум. URL: https://shedevrum.ai.
21. Шиженский Р. Между капищем и СВО: Интервью с русской язычницей / ОК. URL: https://ok.ru/zhurnalrod/topic/156633590593779.
22. Шиженский Р. В. Религиозный нативизм в России “эпохи” ковида // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2021. Вып. 97. С. 91-104. EDN: TRZBQR
23. Шиженский Р. В. Российские язычники в специальной военной операции (опыт индивидуального интервью) // Вестник Мининского университета. 2023. Т. 11. № 4. С. 13. EDN: JDVDPU
24. Шиженский Р. В. Современное русское язычество: религиоведческая концептуализация: автореф. дис. д-ра филос. наук. Н. Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2024. 43 с.
25. Artgeneration. URL: https://artgeneration.me.
26. Ideogram. URL: https://ideogram.ai.
27. Recraft. URL: https://www.recraft.ai.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена изучению специфики образа Н. Н. Фетисова в сборниках рассказов «Калёным железом», «Веселие Руси», «Тихоходная барка “Надежда”» Евг. Попова. Использованы сравнительно-исторический, культурно-исторический, а также метод целостного анализа художественного произведения. В результате установлено, во-первых, что фигура Фетисова как маска реального автора пародирует образ писателя-соцреалиста и графомана, отчасти отсылая к базам Рудого Панько и Поприщина у Н. В. Гоголя. Во-вторых, являясь частью советской реальности, Фетисов рисует её мифологизированный образ, известный из литературы соцреализма, но при этом образ Фетисова пародиен: он предстаёт в двойном освещении - сам характеризует себя в своих и своими сочинениями и одновременно изображён глазами «реального» автора. В-третьих, посредством намеренного сочетания штампов советской речи с элементами «смехового слова» Фетисов фамильяризует, снижает различные виды нарративов: гоголевский, греческую мифологию и мифологическую «мораль» («Ящик Фетисова»), ленинскую стихотворную «апологию» как номинативно, так и тематически («Пять песен о водке»).
В статье художественное творчество рассматривается как особый вид познания мира, позволяющий достигнуть взаимопроникающего единства мысли в себе, познавательного акта и непосредственного течения жизни через переживание события художественного слова. Целью исследования ставится раскрытие смысла поэтического способа познания на примере философского анализа поэзии Ивана Жданова, творчество которого представляет модернистскую ветвь в русской новейшей литературе. Выраженная в поэзии Жданова метафизическая концепция художественного познания раскрывается на материале анализа стихотворения «Замедленное яблоко не спит…» из поэтического сборника «Фоторобот запретного мира» (1997). Осуществленный в статье анализ системы поэтических образов раскрывает авторское осмысление вопроса о предназначении поэта. Подлинным познанием всеединства мира, по мысли Жданова, может быть только внутреннее переживание единства времени, возможное в художественном событии.
В статье исследуется центральное место телесности в формировании социальности в фэнтезийной повести русской писательницы Елены Хаецкой «Летающая Тэкла» (2007). Повесть принадлежит к русской историософской литературе рубежа XX-XXI вв. и строится на обыгрывании жанра готического романа. Осмысление русской истории происходит в трех контекстах: в мессианском изображается постапокалиптический мир, в цивилизационном показано взаимодействие империи и органических наций, в культурном жизненный путь понимается как инициация. В художественном мире романа телесность строится по христианскому типу: не существует души без тела, но тело занимает подчиненное положение в духовной иерархии. Христианская антропология повести обосновывает социальную структуру империи. Римская империя, включающая в себя Арденнский лес, символизирует Россию, восстанавливающую государственность после исторических катастроф на основе христианского понимания телесности.
В статье рассматривается пространство как художественная категория в поэтическом мире Д. Хармса. Данная категория представляется как обладающая стабильными характеристиками: в пространстве выделяются верх и низ, которые сохраняют постоянство в расположении друг относительно друга. Неизменность данной категории можно назвать исключительной в поэтическом мире автора, так как объекты, существующие в его мире, максимально нестабильны, что связано с общей установкой на абсурд в творчестве Д. Хармса. При этом изменчивость объектов в некоторой степени связана с категорией пространства, именно перемещение в нём обуславливает метаморфозы объектов. Замечена тенденция к увеличению объектов при их стремлении вверх и уменьшению при движении вниз. Объекты не просто увеличиваются или уменьшаются, а могут принципиально менять свой внешний вид. При этом объектам доступно существование одновременно в разных местах пространства: оказываясь в другой части пространства, объект может не исчезать со своего предыдущего места. Исходя из этого, высказывается предположение, что хаотичность художественного мира Д. Хармса может быть истолкована как одновременное существование объектов в разных формах в разных точках пространства.
В статье рассматривается поэтологическое своеобразие личного девиза М. И. Цветаевой ne daigne (не снисхожу) как ведущего концепта в её прозаическом творчестве, прежде всего на материале так называемого «триптиха» («Мать и музыка», «Чёрт», «Мой Пушкин»). При этом отмечается связь концепта как с другими эссе и критическими статьями, так и с лирическим наследием поэта. Системность репрезентации концепта на разных уровнях художественного целого изучается в рамках потенциальной имплицитной циклизации, позволяющей говорить о тяготении творчестве Цветаевой к сверхтекстовому единству. Под последним понимается особая разновидность нетрадиционной циклизации, актуализируемая в совместном акте авторско-читательской эстетической деятельности. Особенное внимание уделяется анализу тематического и образно-мотивного уровней «триптиха»: мотивы, формирующие семантическое поле концепта, оцениваются как основные для всей системы сверхтекстового единства о творчестве и судьбе.
«То действительно новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообразных культур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, как и средневековье, - оживают, проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас эпохи, нам более близкие. Говорят, что в важные часы жизни пред духовным взором человека пролетает вся его жизнь; ныне пред нами пролетает вся жизнь человечества; заключаем отсюда, что для всего человечества пробил важный час его жизни. Мы действительно осязаем что-то новое; но осязаем его в старом; в подавляющем обилии старого - новизна так называемого символизма» [2, с. 26]. Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных творчеству русского кинорежиссера А. Тарковского. Проблематика первой статьи ограничивалась постановкой вопроса о рождении в отечественной кинорежиссуре не просто художника-новатора, но и его как мыслителя и философа. В советском и русском кино подобный феномен назвать трудно: например, известный кинотеоретик и эстетик М. Ямпольский считает возможным назвать лишь одного кинорежиссера, примыкающего к философскому цеху, - К. Муратову. Этим же вопросом Жиль Делез, но применительно к мировому кино в целом. Что касается Тарковского, то в отечественном кино он безусловно первый и главный философ. Как утверждалось в нашей первой статье о режиссере, в его раннем (да и зрелом) творчестве можно фиксировать стихию личного опыта как обязательной предпосылки философского мышления. В данной статье анализируется следующая фаза творческой биографии Тарковского, когда режиссер пытается соотнести свой личный опыт и вытекающие из него идеи с уже существующими в ХХ в. в разных культурах философскими системами, не только западными, но и восточными. В современной западной философии режиссер близок к экзистенциализму. Но в последних фильмах заметен его нарастающий интерес к восточным философским и этическим системам, близкий к вынесенному в эпиграф к данной статье суждению А. Белого. В данной статье поставлен вопрос и о возвращении режиссера к искусственно прерванной отечественной философской традиции, возникшей в культуре Серебряного века. Речь идет не только о поисках в искусстве этого времени разных стилевых форм, но и о возникающих или возрождаемых философских идеях: эта проблематика будет рассмотрена подробней в последующих публикациях.
Язычество является одной из древнейших религиозных форм, которая сохранила свое влияние и значение в жизни немалой части граждан России разных национальностей, и относится к числу важнейших элементов идентификационного набора современного человека: пол, национальность, культура, язык и пр. Места, которые предназначены для выполнения особенных религиозных практик, которые мы называем обрядоворитуальными, также входят в религиозный идентификационный набор человека как один из его элементов. Для последователей язычества в России, в разнообразных его формах, такими местами являются, среди прочих, священные рощи, которые играют особую роль в жизни религиозного человека, выводятся из профанного состояния и сакрализуются, приобретают особые онтологические и аксиологические свойства. Современное российское язычество является одним из многих религиозных направлений в многорелигиозном пространстве современной России, поддается классификации, но не сводится и не является чем-то единым, институционально однородным. Является многомерным, моноэтническим и полиэтническим, моническим и политеистическим, сельским и городским, отдельные направления язычества вышли за границы России (например, шаманизм), а некоторые языческие направления, возникшие за рубежом, наоборот, стали частью российского религиозного пространства (например, викка).
Статья посвящена анализу стратегий апологетической саморепрезентации, частотно используемых религиозными общинами «альтернативного православия» и их лидерами в сети Интернет. Поскольку современные маргинальные религиозные сообщества активно осваивают информационную среду и продуктивно используют технологии распространения информации, анализируемые в статье стратегии формируют реализуемую ими символическую политику. Применяемые сообществами маргинального православия апологетические стратегии направлены на формирование пустых рамочных понятий и семиотических фикций, придающих канонически уязвимым, сомнительным, часто откровенно модернистским практикам видимость традиционности. При этом основной акцент делается на вопросы применения канонических норм, тогда как их смысловая интерпретация остается на втором плане, а содержательная аргументация подменяется эмоционально окрашенной риторикой.
Представленная работа посвящена изучению экуменических идей В. С. Соловьева. По мнению философа, трагедия разрыва христианства на православие и католичество произошла по вине византийского духовенства, увлекшегося «антиримской ересью». В нынешнем состоянии ни одна из христианских конфессий не смогла реализовать главную идею христианства - создание общечеловеческого государства социальной гармонии в единстве с Богом. В этом и состоит историческая миссия России. Русский самодержавный император должен взять под свою защиту гонимого европейскими секулярными государствами римского папу, вернуть естественную для христианства иерархию с ним во главе и перестроить общество на принципах «свободной теократии». Проект Вл. Соловьева оказался нежизнеспособен, и позже мыслитель отходит от идей богочеловечества и теократии, но сохранил мечту о воссоединении церквей. Именно в этом ключе и продолжили развивать идеи экуменизма русские богословы XX в.
В статье дается обзор идейного наследия известного русского историка второй «волны» русской эмиграции Николая Ивановича Ульянова (1904-1985), посвященного великому русскому философу Николаю Александровичу Бердяеву. Дискуссии о роли и месте философии Бердяева были распространены в послевоенной русской эмиграции. Анализируется критика Ульяновым идейной позиции Бердяева по национальному вопросу, роли русской православной церкви в истории России и в отношении к Петру Великому и его реформам. По мнению Ульянова, Бердяев не обладал достаточными историческими знаниями, не имел научной методологии, в тайны истории стремился проникнуть интуитивно, что приводило к малонаучным спекуляциям, а также он волюнтаристски относился к творческому наследию П. Я. Чаадаева. В то же время Ульянов признавал авторитет Бердяева, охотно ставил его «крылатые фразы» в виде эпиграфов к своим статьям. Сравнивается позиция Ульянова по отношению к творчеству Бердяева с другими русскими мыслителями: В. Ф. Эрном, Ф. А. Степуном, И. А. Ильиным, Н. О. Лосским. Делается вывод, что Ульянов считал Бердяева типичным интеллигентом-богоискателем, далеким как от православия, так и от академической науки.
В статье рассматривается отношение Бердяева к идейному наследию славянофилов. Выявляются противоречия в его оценке этого течения: с одной стороны, высоко оценивается значение идей славянофильства в развитии национального самосознания, в разработке оригинального русского богословия и самобытной философии; с другой - мыслитель критикует славянофилов за излишнюю погруженность в народные традиции, за своеобразное понимание роли общины в отечественной истории, за отсутствие пророческих и эсхатологических мотивов. В статье подчеркивается, что обращение русских мыслителей к эмпирической жизни народа не только не умалило значимость славянофильства, но и делало философские размышления представителей этого течения более полными и фундаментальными.
В статье анализируются особенности религиозно-философской антропологии Н. А. Бердяева сквозь призму концептов «реальный человек» (субъект) и «индивидуальный человек» (объект среди объектов, вещь среди вещей). В основе воззрений Бердяева лежит персоналистический аспект: личность есть человек, который имеет силы и потенциал преодолеть собственную объективность через целесообразное и эффективное применение собственного свободного и творческого потенциала. Творчество есть подлинный путь духовного совершенствования человека на пути к достижению идеального состояния. Никто из людей не может быть назван «идеальным человеком» в силу оценочного характера понятия, антропологический идеал может быть достижим в эсхатологической перспективе. Но человек на протяжении жизни должен стремиться к идеалу, основанному на раскрытии свободы, творческого и аскетического потенциала, укорененных в Божественном начале.
В работе «Очерки философии права» (1914) выдающегося русского философа и юриста Иосифа Викентьевича Михайловского (1867-1920), выдвинувшего в противоположность неокантианцам призыв «Назад к Гегелю!», мы найдем развернутую концепцию естественного права как элемента мирового этического порядка, объединенного идеей абсолютного блага. Развивая традиции русской философии права, восходящие к Б. Н. Чичерину, Михайловский стремится синтезировать гегелевскую идею всеобщего нравственного миропорядка и кантовскую трактовку права на основании взаимосвязи идеи разума и идеи блага. В его конечной формулировке идея права выступает как синтез общественного порядка и личной свободы человека. Учение И. В. Михайловского может рассматриваться как один из перспективных источников современной философии права России.
В статье рассматриваются особенности понимания Герценом проблемы осуществления социализма, его взгляды на нравственное и социальное преобразование общества и влияние ранних французских социалистов на его мысли. Герцен подчеркивает уникальность «русского социализма», основанного на идеалах свободы, равенства и взаимопомощи, критикуя буржуазное общество за его меркантильность и предлагая путь развития через просвещение и духовное самосовершенствование. Статья освещает Герцена как мыслителя, акцентирующего внимание на важности индивидуальной свободы и нравственного развития как условий осуществления социализма. Автор обосновывает, что на протяжении всей своей идейной эволюции Герцен понимает социализм как радикальное нравственное преобразование, призванное разрешить проблему личности и общества. Представления Герцена о социализме сближают его с традицией социального христианства в России.
В статье рассматриваются взгляды Ханны Арендт и Вальтера Беньямина на взаимосвязь между созданием вещей и созданием историй и их отражение в рассказе Габриэля Гарсиа Маркеса «Самый красивый в мире утопленник». В «Vita Activa» Арендт выделяет три основных вида человеческой деятельности: труд, создание и действие, результатом последней из которых являются рассказываемые людьми истории. Еще ранее, предвосхищая мысли Арендт, Беньямин связал упадок искусства повествования с заменой ремесла высокотехнологичным производством в капиталистическом обществе модерна. В рассказе Маркеса совместное творчество и сопутствующие ему истории выступают как средство преодоления отчуждения и превращения непонятного и чужого в местное и понятное. В статье обсуждаются философские и социологические аспекты рассматриваемых концепций, их применимость для решения современных социальных проблем.
Статья посвящена исследованию роли и места трудовой и социально-политической деятельности человека в процессе становления его в качестве личности, как они понимаются в персонализме Эмманюэля Мунье и в философской антропологии Иммануила Канта. Анализируются такие понятия персонализма Мунье, как «воплощение» и «сопричастность». Раскрывается положение этих понятий в учении Мунье о личностном развитии человека. Проводится компаративистский анализ рассматриваемых понятий в контексте кантовской системы философской антропологии. В частности, сопоставляется смысловое содержание понятий «воплощение» и «сопричастность» с учением Канта о раскрытии технических и прагматических задатков человека. Делаются выводы о значительной схожести взглядов обоих философов на взаимосвязь трудовой и социально-политической деятельности человека с его духовно-нравственным развитием. Выявляются отличительные особенности взглядов Канта и Мунье на рассматриваемые философско-антропологическую и социально-философскую проблематики, исследуются концептуальные различия этих взглядов.
Гегель исходил из того, что религия не может слиться с искусством, а искусство не может подменить собой религию. Вместе с тем их симбиоз является необходимым в силу присутствия в религиозном представлении формы чувственного и природного, т. е. непосредственного; а в художественном чувстве искусства - содержания взаимоопосредствования чувственности единичного предмета и всеобщности духовного начала. Это отношение, согласно Гегелю, достигает идеальной гармонии в классическом античном искусстве. Но глубина религиозного содержания христианской веры уже не может быть адекватно выражена в формах искусства. Здесь Гегель усматривал основную трудность для художественного воспроизведения христианских образов.
Философия Канта дала новое понимание не только разума, его возможностей и границ, но и чувственности. Чтобы стать одним из источников знания, а также проводником морального действия, чувство не может быть просто пассивностью, как часто толкуют позицию Канта, но оно должно обладать собственным способом действия. Коперниканский переворот Канта ведет к определенной трансформации чувственности, в основе которой обнаруживается своя энергия действия, особое отношение субъекта к самому себе. В «Критике практического разума» эту трансформацию Кант описывает как переход от страдания к чувству уважения к моральному закону и далее к чувству самоудовлетворенности, которое образует среднее звено между чувством и объективным основанием воли. «Критика чистого разума» сталкивает нас с проблемой реальности внешнего мира, и решением этой проблемы для Канта является анализ формы пространства как свидетельства действия вещей в себе. Причем чувства выступают здесь не просто оттисками этого внешнего воздействия, но и необходимой формой разворота от внешнего действия к действию, которое исходит уже не от вещей, а от самого рассудка. Тем самым чувства выступают необходимым условием синтеза как соединения внешнего действия с действием рассудка, результатом чего и является система знания.
В статье показана история становления психоаналитического дискурса в контексте культурных и антропологических процессов современности, а также как вектор «критического гуманизма». Учение З. Фрейда - это своего рода «коперниканская революция» современности, которая заставила пересмотреть не только образ человека, но и всех фундаментальных ценностей и институций. Однако психоанализ возникает не как уникальное явление: ему предшествует развитие идей философского экзистенциализма (Кьеркегор) и философии воли (Ницше, Шопенгауэр), а также кризис классического описания человека и мира. Личная идентичность в эпоху современности становится проектом, неопределенностью, тогда как в классических моделях она предопределялась социальной средой и культурным контекстом. В этом смысле психоанализ появляется как «теория и практика» нового стремления к частному бытию и поиску идентичности.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- АНО ВО РХГА, РХГА, АКАДЕМИЯ ДОСТОЕВСКОГО
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 191023, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, наб Реки Фонтанки, д 15 литера а
- Юр. адрес
- 191023, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, наб Реки Фонтанки, д 15 литера а
- ФИО
- Богатырёв Дмитрий Кириллович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@rhga.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 5713075
- Сайт
- https://rhga.ru