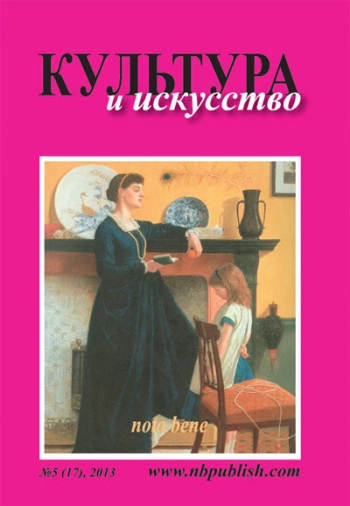Статьи в выпуске: 11
Статья посвящена исследованию диалогической природы музыкально-поэтического синтеза в вокальном цикле Г. Свиридова «Песни странника». Рассматривается уникальный опыт композитора в создании музыкального произведения на основе древнекитайской поэзии в переводах Ю. К. Щуцкого. Исследуются особенности взаимодействия русской и китайской культурных традиций на уровне музыкального языка, драматургии и исполнительской интерпретации. Анализируются символическая семантика музыкальных образов цикла, специфика вокальной декламации и особенности трактовки фортепианной партии как равноправного участника музыкального диалога. Особое внимание уделяется историческому контексту создания цикла, связанному с пребыванием композитора в эвакуации в Новосибирске в 1941-1942 годах, что обусловило особое эмоциональное состояние «затерянности» и одновременно открытости к восточной культуре. Рассматривается также исполнительская судьба произведения, впервые получившего концертное воплощение лишь в XXI веке. Исследование опирается на комплексный междисциплинарный подход, сочетающий музыковедческий анализ с элементами культурологического, литературоведческого и исполнительского анализа. Используются методы стилистического, структурно-функционального и сравнительного анализа, позволяющие раскрыть диалогическую природу произведения. Привлекаются также биографический и историко-контекстуальный методы для выявления связи художественных особенностей цикла с жизненными обстоятельствами и творческой эволюцией композитора. Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении диалогической природы вокального цикла «Песни странника» как уникального явления синтеза восточной и западной культурных традиций. Впервые проведен детальный анализ символической семантики музыкального языка цикла, выявлены особенности взаимодействия вокальной и фортепианной партий как равноправных участников диалога культур. Установлено, что Свиридов создает оригинальную систему музыкальных символов, воплощающих философскую глубину китайской поэзии без прямой стилизации, формируя тем самым новый тип межкультурного диалога в музыкальном искусстве. Исследование вносит вклад в понимание творческой эволюции Свиридова, демонстрируя неизвестную ранее грань его композиторского дарования - способность к глубокому проникновению в иную культурную традицию. Выявлены также особенности исполнительской интерпретации цикла, требующей от музыкантов специфического сочетания различных вокальных и пианистических традиций.
Объект настоящего исследования - теория и практика современного дизайна Китая, в которых прослеживается использование искусства народа мяо. Предмет исследования - специфика интеграции традиционного искусства мяо в современном дизайне Китая. В ходе рассмотрения темы рассматривается проблематика исследования, кратко обозначены результаты существующих исследований культуры мяо, обозначены специфика эстетики мяо и возможности ее применения в тех или иных сферах дизайна. На примере ряда дизайн-проектов прослеживаются инновационные интерпретации технологий, материалов и визуального языка искусства мяо в разработке современной продукции. Обозначена необходимость актуализации и модернизации искусства мяо методами современного дизайна в соответствии с ожиданиями и эстетическими предпочтениями современного общества. Отдельно рассматривается вопрос о цифровых технологиях в сфере инновационного развития искусства мяо для реализации тех или иных дизайн-проектов. Основными методами в исследовании проблематики выступили: систематизация, кейс-стади, обобщение, а также метод индукции и метод междисциплинарного исследования. В работе впервые в российской науке прослеживаются основные аспекты теории и практики интеграции искусства народа мяо в творчестве современных китайских дизайнеров. В ходе исследования делается вывод о том, что актуальность и ценность искусства мяо в современном дизайне Китая объясняются запросом китайского общества на продукцию, имеющую связи с традиционной культурой и культурой этнических меньшинств, развитием сферы внутреннего туризма, а также большой востребованностью сувенирной продукции. Эстетика и искусство народа мяо обеспечивают широкие возможности для инновационного развития экологического дизайна, этнического стиля в дизайне и др. Кроме того, значителен потенциал использования современных цифровых технологий в реализации различных дизайн-проектов, предполагающих переосмысление и обновление искусства мяо. Использование инноваций позволяет раздвинуть границы в представлениях о материалах, техниках, художественных формах и способах выражения значимых общечеловеческих смыслов. В результате современный китайский дизайн активно выводит искусство народа мяо за пределы традиционной культуры и региона, давая ему новую жизнь и новую интерпретацию с позиций глобализации и мультикультурализма.
Статья посвящена деятельности пейзажного класса в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), ставшего особым явлением в русской художественной культуре, так как с творчеством его выпускников (А. К. Саврасова, И. И. Левитана, К. А. Коровина) связаны одни из высших достижений русского реалистического пейзажа. В 1857-1882 гг. руководителем класса стал Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897), благодаря влиянию которого сформировалась московская пейзажная школа. Центральное место в исследовании занимает вопрос о роли А. К. Саврасова как руководителя класса, анализируется эволюция его педагогического метода, который претерпевал изменения в течение 25 лет его преподавательской практики, что было связано во многом с его творческими поисками. Особое внимание в исследовании уделяется раскрытию взаимосвязей пейзажного класса, его учеников, с художественной жизнью Москвы. Выявлено, что ученики класса были не только пассивными созерцателями художественного процесса, посещая собрания московских коллекционеров, но и его активными участниками. Они принимали участие в лотереях и конкурсах, устраиваемых московскими художественными обществами, а также экспонировали свои работы на выставках, получая отклики в прессе. Методологическая база исследования основывается на культурно-историческом анализе, включающем работу с архивными данными, а также источниками личного происхождения и периодикой. Научная новизна работы заключается в том, что исследование представляет целостную, объемную картину жизни пейзажного класса МУЖВЗ данного периода в контексте историко-культурной ситуации в Москве. Выводы исследования демонстрируют, что пейзажный класс в 1857-1882 гг. представляет собой уже сложившееся явление в образовательной системе МУЖВЗ с собственными педагогическими наработками, которые приносят ощутимые результаты в творчестве учеников, а сами воспитанники класса были плотно интегрированы в художественный процесс, происходящий в русском искусстве конца 1850-х-начала 1880-х гг. Кроме того, в статье обозначен круг учеников пейзажного класса, многие из которых являются малоизвестными сейчас художниками. Исследование способствует введению в научный оборот их имен, что может стать отправной точкой для дальнейших изысканий по истории отечественного пейзажа.
Предметом исследования является цивилизационная уникальность гендерных знаков и символов, входящих в архетипическую структуру кодов китайской культуры на уровне древних традиций и современной морфологии, включая новейшую социалистическую доктрину. Неизменность базовых атрибутов гендерной семиотики нашла выражение во всех ключевых сферах культуры, включая искусство и живопись, что определило цель и задачи исследования: обосновать иконографические образы «мужского» и «женского» в китайском соцреализме посредством связи с древней традицией саньцзяо, архетипы и символы которой фиксируют культовое почитание «мужчины-Отца» как главы рода и основателя нации; раскрыть причины и следствия утверждения социалистического реализма в китайской живописи ХХ-ХХI вв.; преодолеть узость определения «соцреализма» как художественного метода и признать его специфичным проявлением в культуре КНР и СССР идеологической веры в оптимистическое будущее социалистического общества, основанного на трудовом героизме, равенстве мужчин и женщин, социальной справедливости и отсутствии классов. Методологический инструментарий исследования включил совокупность методов и приемов семиотического анализа текстов культуры, устной и письменной традиции, изображений живописи, цифровых аналогов художественной визуализации. Описательные, исторические, сравнительные, структурные, формально-логические методы применялись в сочетании друг с другом, чтобы обеспечить всестороннее понимание искусства соцреализма. По результатам исследования получены выводы, имеющие новизну и актуальность в сфере теории культуры и искусства: доказано, что соцреализм в КНР и СССР был типом культуры с характерными атрибутами системы коллективных ценностей и коммунистического мировоззрения, утвердившего веру в справедливое будущее человека нового типа; определена морфологическая структура гендерных образов в живописи художников реалистов периодов «Большого скачка» (1958-1960) и Культурной революции (1966-1976), настоящего времени; классифицированы гендерные образы в живописи соцреализма в соответствии с архетипами мужчины-Отца, Мудреца, Праведника, Героя, женщины-Матери, юной красавицы; установлены социально-политические компоненты изменений в создании иконографии «мужского» и «женского» в контексте сложившейся историко-культурной ситуации и обоснована связь с архетипическими структурами культурного кода. Полученные выводы могут быть рекомендованы в практической области применения: теории и истории культуры, семиотики культуры, реалистическом искусстве.
В статье сделана попытка понять причину феномена популярности понятия «кринж» распространившегося из молодежного сленга, в начале ХХI века, а также оценить культурное значение данного явления. В качестве доказательства проникновения кринжа в массовую культуру приводится жанр кринж-комедии. Т. е. особого рода комедии ситуаций. Подобные шоу часто используют элементы (псевдо)документалистики. Темпорально расцвет этого жанра совпадает с упадком объяснительной силы постмодернисткой теории, претендующей на роль основного языка описания культурных трендов (в первую очередь, стран Запада) второй половины ХХ века. Возникают многочисленные концепции, призванные отразить новейшие тенденции современности, которые отечественный философ А. Павлов объединяет под зонтичным термином «постпостмодернизм». Одним из самых известных и востребованных концептов подобного рода является «метамодернизм». Для анализа перемен в чувственности используется концепт Р. Уильямса “структура чувств”. Основные методы, которые были использованы в данном исследовании: контекстуальный, историко-генетический, компаративный, культурологический анализ. Новизна исследования заключается в том, возможно ли с помощью понятия “метамодернизм” концептуализировать сдвиги в чувственности, позволившие кринжу стать знаком нашего времени. Или же для описания перемен достаточно “устаревшего” понятия “постмодернизм”. Очевидно, что существует значительный запрос хотя бы на какую-то форму аутентичности и, одновременно, на связь с другими, даже если эта связь столь эфемерна, как общее для всех чувство неловкости. Однако авторы концепции “метамодернизм” лишь пунктирно обозначают связь изменений в чувственности с изменениями социально-экономических условий. Тезис Адама Коцко позволяет компенсировать данный недостаток, увязав перемены в чувственности с экономическим переходом от фордизма к постфордизму. Но перемены, произошедшие в структуре чувств, с неменьшим успехом могут быть объяснены и в рамках постмодернизма. Эти изменения являются развитием социальных и культурных трендов прошлого столетия. Поэтому выбор постмодернизма или метамодернизма в качестве инструмента определяется предпочтениями исследователя, а сам феномен кринжа и связанные с ним культурные явления вполне вписываются в рамки теории постмодернизма, что позволяет подчеркнуть преемственность между социально экономическими основаниями и их репрезентацией в культуре.
Искусство уличных пространств становится все более актуальным и популярным в современном мире. В данной статье предлагается провести сравнительный анализ паблик-арта в двух крупных странах - Китае и России. Предметом исследования являются популярные направления в уличном искусстве Китая и России. Статья содержит результаты компаративистского исследования паблик-арта в обеих странах. Особое внимание уделяется популярным направлениям уличного искусства, анализу актуальных тенденций развития данного жанра. Автор детально раскрывает функциональные аспекты паблик-арта в контексте культурных особенностей России и Китая, выявляя общие черты и уникальные особенности этих направлений. Исследование ориентировано на выявление актуальных тенденций в уличном искусстве и перспектив развития паблик-арта на территории обеих стран. В ходе исследования применялись методы сравнительного анализа и синтеза, исторический метод, а также аксиоматический метод. Новизной исследования является рассмотрение паблик-арта с учетом национальных особенностей и культурных традиций каждого государства. Сопоставление данного искусства в Китае и России позволило выявить общие черты в современной художественной практике: масштабы распространения, основные тематические направления и функциональную значимость. Полученные результаты станут основой для дальнейших научных исследований в области современного искусства, дизайна и урбанизма, а также могут способствовать более глубокому пониманию влияния паблик-арта на формирование культурного ландшафта и общественного мнения в обеих странах. Сравнительный анализ открывает новые перспективы для изучения взаимодействия искусства с обществом в разных культурных контекстах. Понимание особенностей уличного искусства в Китае и России поможет лучше осознать его роль в формировании культурной и социальной среды, а также в развитии современных тенденций в искусстве.
Визуальная культура рубежа XX-XXI веков демонстрирует устойчивый интерес к гностическим мотивам, проявляющимся как в кино и медиаискусстве, так и в перформативных, архитектурных и биоарт-практиках. В центре исследования - анализ визуальных форм, в которых гностическое знание реализуется не как иконография, но как способ переживания инаковости, утраты и сакрального разрыва. Объектом исследования выступает визуальная культура современности как поле репрезентации сакрального знания в постсекулярном контексте. Предметом исследования являются гностические образы и их интерпретация в современной визуальной практике - от кино и биоарта до инсталляционных, перформативных и архитектурных форм. В фокусе - способы, с помощью которых гностическая оптика трансформируется в визуальные коды, не сводимые к иллюстрации, а действующие как инициация, прореха в знаковом, вызов чувственному. Особое внимание уделяется тому, как современное искусство использует свет, пустоту, молчание и фрагмент не как формальные приёмы, а как структуры сакрального опыта. Гностическая визуальность рассматривается как форма пневматического познания - не передающего смыслы, а вызывающего анамнесис. Исследование опирается на философию визуального как способ анализа медийной репрезентации сакрального, феноменологию образа - для выявления онтологического статуса визуального мотива, герменевтику символа - для интерпретации архетипических структур, и гностическую онтологию - как метафизическую рамку прочтения визуального опыта. Основными выводами проведённого исследования являются утверждение гностической визуальности как особого типа образности, проявляющейся в современных художественных, перформативных и кинематографических практиках, и выявление механизмов ремифологизации сакрального опыта через образы света, фрагмента, молчания и распада. Исследование показывает, что гностический образ действует не как иконографический знак, а как инициация - через перцептивное и телесное переживание. Научная новизна состоит в интерпретации гностических мотивов - Софии, демиурга, трёхчленной антропологии, плеромы - в контексте современной визуальной культуры, а также в введении в научный оборот понятия иконического неомифа как эстетической стратегии восстановления сакральной формы вне традиции, через свет, тишину и пустоту. Особым вкладом автора является разработка междисциплинарного подхода, соединяющего гностическую онтологию образа с феноменологией восприятия и философией визуального опыта.
Джордж Кадиш (1910-1997) - литовский еврей, фотограф, выживший узник Каунасского гетто. На протяжении нескольких лет он тайно фотодокументировал повседневность узников гетто. Объектом исследования в данной статье является серия фотографий Джорджа Кадиша, сделанных в Каунасском гетто в период с 1941 по 1944 гг., а предметом исследования - форма авторского высказывания о событии в документальной фотографии. В статье снимки Кадиша предлагается проанализировать с точки зрения двойственности документальной фотографии: как прямое и непрямое высказывание о событии. Особое внимание в статье уделяется второму типу документальности, которое отсылает не только к самой фотографии, но и к событию в целом, позволяя вывести анализ фотографии за ее же собственные рамки. В основе предложенного визуального анализа лежит подход Диди-Юбермана. В анализе снимков он уделяет особое внимание изображенному пространству и случайным деталям, а также самой практике фотографирования. Такой подход позволяет не просто описать фотографии, но расширить возможности их понимания. Новизна данного исследования заключается в применении методологии Диди-Юбермана к фотографиям Джорджа Кадиша. В рамках предложенного в статье анализа рассматривается несколько сюжетных групп фотографий. Особенно важным оказывается обратить внимание на те элементы в фотографии, которые на первый взгляд могут показаться незначительными и малоинформативными. В статье осуществляется попытка наделить эти фотографии особым свидетельским статусом. Они предстают не только как зафиксированные моменты той реальности, но как сосредоточение опыта узников - никогда невыразимого до конца. В статье изложена точка зрения о том, что эти фотографии предстают перед нами, с одной стороны, как фрагменты индивидуального опыта, а с другой - в качестве части коллективного опыта Холокоста.
Предметом исследования является выражение элементов локального культурного наследия в визуальной системе городского бренда и методы их визуального перевода. Объектом исследования являются элементы культурного наследия в визуальной системе городского бренда. В отличие от предыдущей публикации автора в журнале, в данной работе предлагается к обсуждению трехуровневый путь выражения: «культурное очищение - реконструкция формы - визуальная коммуникация». Подробно анализируются три метода трансляции: очищение и перекодирование символов, деконструкция паттерна и реорганизация ритма, а также реконструкция и символизация регионального цветового спектра. Данное исследование посвящено художественному выражению локального культурного наследия в дизайне визуальных элементов городского бренда и обосновывает, как культурные символы транслируются в образ города. Применяется метод, сочетающий теоретические исследования с анализом конкретных случаев: сбор и анализ успешных практик (Бишань, Людуань, Юньнань). Также семиотический анализ: интерпретация культурных символов через призму теории знаков (например: маски Нуо как знаки ритуального наследия). Визуальный анализ ритмики орнаментов Людуань. Полевое исследование на этапе «культурной очистки». Исследование показало, что традиционные культурные ресурсы не только укрепляют узнаваемость городской культуры посредством научной визуальной реконструкции, но и расширяют коммуникационный путь системы бренда. В данной статье представлены теоретическое обоснование и методические рекомендации по визуальному конструированию городских брендов, а также рассматривается проектный путь, позволяющий расширить возможности современного выражения культурного наследия. Научная новизна исследования заключается в преодолении традиционной линейной модели «извлечение элементов - простое применение» за счёт интеграции трёх взаимосвязанных процессов: декодирования культурного ядра, современной дизайн-реконструкции и оптимизации коммуникативной эффективности. Автор разрабатывает трёхэтапную визуальную модель («культурная очистка - формальная реконструкция - визуальная коммуникация»), систематизирующую логику трансляции наследия в городском брендинге, а также предлагает три конкретных метода - символьную очистку, реструктуризацию орнаментов и цветовую адаптацию, - для повышения эффективности и применимости теории. При этом формулируются четыре принципа визуальной стратегии: упрощение, семантическая согласованность, современная эстетика и системное единство. Даны рекомендации для интеграции культурного наследия в визуальные системы разнотипных городских брендов.
Предметом исследования является слияние традиционной китайской живописи тушью и цифровых иммерсивных технологий. Объектом исследования выступает опыт пяти чувств в дизайне иммерсивных сцен, основанных на живописи тушью. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы, как философские коннотации и эстетический язык классических произведений живописи тушью, уникальные художественные особенности этого вида искусства, включая космологическую концепцию «единства человека и природы», акцент на передаче сущности, а не на реалистичности, а также текучесть времени и пространства в композиции свитков. В работе анализируется эффективность трансляции художественного языка живописи тушью с помощью таких технологий, как VR/AR, голографическая проекция и сенсорные датчики, на примере практических кейсов, в частности, выставочных пространств проекта «Путешествие к реке во сне» цифрового павильона «Цинмин, путешествие к реке 3.0». Особое внимание уделяется парадигме интеграции «синергии пяти чувств» для создания иммерсивных пространств. Методологическую основу исследования составляет междисциплинарный подход. Метод изучения конкретных случаев применяется для разбора практической реализации иммерсивных проектов, в частности, на примере мониторинга пространств проекта «Путешествие к реке во сне» выставочного павильона «Цинмин, путешествие к реке 3.0», что позволяет системно оценить эффективность перевода художественных особенностей живописи в иммерсивную среду. Основными выводами проведенного исследования являются обоснование подхода пятисенсорного иммерсивного восприятия для реконфигурации философско-эстетических принципов традиционной китайской живописи тушью. Особым вкладом автора в исследование темы является усовершенствование данного подхода позволяющего транслировать через цифровые технологии глубинные культурные и философские смыслы, заложенные в традиционной китайской живописи. Научная новизна исследования состоит в усовершенствовании парадигмы «синергии пяти чувств» к дизайну иммерсивных выставочных пространств. В отличие от существующих подходов, которые фокусируются преимущественно на визуальной составляющей, данное исследование предлагает в дальнейшем к применению объединённую модель, которая активирует все органы чувств для создания комплексного эстетического восприятия и опыта. Это открывает новые перспективы для актуализации традиционного искусства в цифровую эпоху, а также создает основу для дальнейших исследований.
Статья посвящается 165-летию со дня рождения М. И. Ожегова (1860-1934), русского поэта-песенника, самоучки, выходца из крестьян Вятской губернии, в песенно-музыкальном наследии которого заметное место занимает популярная песня «Меж крутых бережков». Объектом исследования являются фортепианные вариации на тему этой русской песни, написанные современным российским композитором В. В. Рябовым, а предметом - специфические связи звучащей музыки композитора и «закадровых» слов поэта-песенника. Отмечается, что обращение композитора В. В. Рябова к песенной мелодии М. И. Ожегова не было первым: в первой половине ХХ века выдающиеся русские композиторы И. Ф. Стравинский и Д. Д. Шостакович при создании музыки к театральным постановкам уже обращались к песенным мелодиям М. И. Ожегова («У церкви стояли кареты», «Чудный месяц»). С целью демонстрации взаимодействия мелодии песни М. И. Ожегова «Меж крутых бережков» с вариациями современного композитора В. В. Рябова на тему этой песни использован метод анализа содержательной основы произведения. В статье изложена точка зрения известных отечественных музыковедов на стиль сочинений В. В. Рябова - в частности, его фортепианных произведений. Новизной данного исследования является попытка проникновения в суть замысла созданного современным композитором В. В. Рябовым фортепианного цикла «Двадцать пять русских народных песен», сделанная на примере одного из произведений этого цикла - вариации на тему песни «Меж крутых бережков». В рамках выполнения анализа содержательной основы фортепианных вариаций грани формы и элементы фактуры соотнесены с текстом ожеговской песни и предложена своя «программа» произведения, благодаря чему статья убедительно доказывает, что композитору не только удалось создать виртуозные вариации на тему песни, но также точно передать в музыке сюжет поэтического текста М. И. Ожегова.